 Translit
Translit
Непреходящая боль
08.03.2012
0
3959
Отрывок из книги Магомета Семенова "Непреходящая боль"

Магомет Семенов
Годы событий печальных, годы скорби, страданий и утрат депортированных народов быть забытыми не могут. Кому-то, может, и надоели повторы событий той годины суровой, но у моего народа ушедшие в иной мир в период войны и депортации, всегда упоминаются с молитвенным обращением к Всевышнему о прощении их грехов.
Шла жестокая Вторая мировая война, причиной возгорания которой был пришедший к власти гитлеровский фашизм в Германии. Вероятней всего, Гитлер не обладал ни глубиной стратегического мышления, ни дальновидностью и мудростью полководца. Последующая цепь событий в затеянной им авантюрной, кровопролитной, человеконенавистнической войне, приведшая к полному крушению Вермахта, явилось тому подтверждением. Гитлер не только был фанатически одержим идеями фашистской, национал-шовинистской идеологией, верил в исключительность и избранность арийской нации, в ее божественное предназначение управлять другими народами, но и был безоглядно самонадеянным (самоуверенным) человеком. Именно поэтому фюрер германского народа решил поднять третий рейх до мирового господства, огнем войны покоряя страны и уничтожая иные расы и народности.
Готовясь к глобальной войне, заразив немецкий народ своей фанатичной убежденностью, он сумел создать сильнейшую по тому времени, хорошо обученную, оснащенную новейшим вооружением армию – машину-убийцу. Тем не менее, все же следует отметить исключительную способность Гитлера убеждать людей в своей правоте, несмотря на полное отсутствие дара предвидения возможных последствий затеянной им мировой войны. Европа рухнула, где-то едва приняв бой, а где-то и без сопротивления вовсе. После чего, твердо уверовав в несокрушимость сил Вермахта и возможность молниеносной победы над Советским Союзом, обреченный третий Рейх начал усиленно готовиться к войне с СССР. Разработанный генштабом Вермахта план нападения предусматривал строгую секретность, внезапность и максимальное участие всех родов войск при вторжении в пределы Союза. Но история отметит 22 июня 1941 года как начало конца третьего Рейха.
Набат военной тревоги поднял весь советский народ на защиту Родины. В Советскую Красную Армию были мобилизованы отцы и сыновья народов, еще не названных предателями. Женщины трудились в тылу, не жалея сил для фронта и ради победы. Семьи советских людей всё чаще получали извещения о погибших в боях солдатах. Рушилась радость счастья молодых семей, тускнели глаза скорбящих матерей. Об этой суровой године и выпавших на мою долю испытаниях, и о событиях, полных нечеловеческих переживаний периода 1943-1945 годов, времени горьких страданий, мук, голода и смертей, обрушившихся на мой и другие депортированные народы, чему сам был свидетелем и участником, пойдёт мой печальный рассказ.
В тот день, отмеченный слезами, скорбью и жестоким унижением чести и достоинства моего гордого, честного, трудолюбивого народа, я, тринадцатилетний больной подросток, лежал в Карачаевской больнице города Кисловодска. Наступившие вечерние сумерки второго ноября 1943 года ещё не предвещали нам беды. Во всяком случае, мы были в неведении творимого насилия над нашим народом.
Чем-то сильно встревоженная пожилая нянечка, русская по национальности, которая относилась ко мне, как к родному сыну, принесла мою одежду и, в слезах, помогла мне одеться. Я ничего не мог понять - то ли приехали меня забирать домой, то ли что ещё, и уж тем более причину расстроенного состояния нашей нянечки. Не обращаясь ни к кому, она всё повторяла: «Господи, Боже мой, какое горе к нам пришло, какое ужасное горе! Я видела во сне, как наш советский самолёт бомбил нашу больницу». В это время в нашу палату зашли два солдата. Один из них, непонятно почему, держал автомат наготове.
Вдруг нянечка подошла ко мне и в слезах, еле сдерживая рыдания, начала умолять солдат отдать меня ей, что она заберет меня к себе домой. Я сносно знал русский язык, так как в нашем доме до войны квартировали русские семьи, и в школе обучали нас русскому языку. Я не мог понять, почему она вдруг стала просить разрешения забрать меня к себе домой. Но солдат молча, грубо дернул меня за плечо и вывел в коридор. В это время в коридоре девушка-карачаевка, лет шестнадцати-семнадцати, громко плача, звала мать: «Ой, анам, анам!» и пыталась убежать. Медсестра, удерживала её, подошла другая, и они вдвоем, нанося побои, увели ее куда-то по коридору. По ее поведению мне показалось, что она страдала слабоумием.
Из других палат вывели еще двух больных мужчин-карачаевцев. Один из них опирался на костыли, другой, полусогнутый, тяжело шагал, с усилием преодолевая боль. Невзирая на состояние больных, солдаты торопили нас и при спуске по ступенькам со второго этажа больной, на костылях, споткнувшись о костыль, неудачно упал, издав вскрик от боли. Солдаты помогли ему встать (их уже было четверо) и вывели нас на улицу, где стояла с работающим мотором «полуторка». Спешно подняв нас на кузов машины, дали команду водителю ехать на станцию товарных поездов. Машина шла быстро. Колючий холодный ветер бил в лицо, обжигая щеки.
Приехали на станцию. Товарняк стоял на крайних путях. Вдоль поезда ходили офицеры и солдаты. Из вагонов доносился невнятный шум. Подбежавший к нам офицер указал нашим конвоирам вагон, куда должны были нас разместить. Машину подогнали к указанному вагону. Два солдата, охранявшие вагон, открыли двери, и нас втащили вовнутрь. Вагон до предела был заполнен людьми и вещами. Двух этих больных каким-то образом разместили дальше от входа, а я остался сидеть у дверей вагона на доске. На мне была легкая летняя одежда, и пока, везли нас в кузове, я изрядно продрог. Еще в коридоре больницы я заметил, что на больного, который опирался на костыли, было накинуто какое-то одеяло, и был он подпоясан то ли тряпкой, то ли старым платком и без головного убора. А второй больной был в солдатской шинели и в пилотке.
После езды в открытом кузове полуторки спертый, затхлый, «сдобренный» запахом испарений человеческих тел, разогретый дыханием множества людей, воздух вагона показался мне приятно теплым. Но так было, пока поезд стоял. Из разговоров этих двух больных я узнал, что они были участниками боев с немцами. Первый был ранен осколком в колено, и оно не сгибалось. Его готовили к операции в Кисловодске. Второй больной был ранен в паховую область.
В полумраке вагоне слышался негромкий скорбный разговор опечаленных горем людей. Здесь я узнал, что всех карачаевцев насильно переселяют куда-то. Поблизости от меня, молодая женщина, вдова погибшего на фронте советского солдата (по ее словам, похоронное извещение она получила еще до оккупации Карачая гитлеровцами), мать троих малолетних детей, сама тихо плача, прижав к груди, старалась успокоить плачущего от голода младенца. Вскоре какие-то близкие родственники забрали эту семью к себе, подальше от дверей вагона. Люди через головы передавали детей и нехитрые пожитки семьи туда, где родственники помогали им разместиться. Женщина тоже перебралась туда.
Поезд тронулся в путь с визгом и скрежетом, постепенно набирая скорость. Слабый свет электрических фонарей товарной станции, освещавший внутрь вагона тусклым светом через узкие окошечки, остался позади уносящего нас неведомо куда поезда. Вагон погрузился во мрак наступившей ночи и наполнился плачем малолетних осиротевших детей и тихими стенаниями скорбящих женщин. Женщин, оставшихся без сыновей и мужей, воюющих на фронтах Отечественной войны и погибающих, защищая Родину и ее преступную власть. Но! Она – эта «родина», за сынов моего народа, проливавших кровь, жизнь свою не щадивших на фронтах Отечественной войны, за её свободу и спасение, «отблагодарила» мой народ изгнанием стариков, женщин и детей из святой земли предков, обратив людей в бесправных узников, да ещё наградив клеймом - «Народ-предатель». Но нет!! Мой народ не был предателем! А самым жестоким предательством было предательство «Родины» своих ни в чём не повинных народов, своих же спасителей, подвергнув их депортации.
Как можно считать предателем немногочисленный, 88-тысячный, мой народ, отправивший на защиту Родины от ига фашизма семнадцать тысяч двести сорок семь лучших своих сынов, в том числе, 2 тысячи находились на трудовом фронте. 9340 погибли, в их числе и мой восемнадцатилетний брат Рамазан (погиб и похоронен в хуторе Реченске, берег Дона), 6000 вернулись инвалидами, больными и списанными из рядов армии с унизительным прозвищем «неблагонадежные».
Как можно считать предателем народ численностью восемьдесят восемь тысяч человек, двадцать шесть доблестных сыновей которого за мужество, героизм и отвагу, проявленные ими в боях с врагом, были представлены к присвоению звания «Герой Советского Союза»? Одиннадцати это звание было присвоено, а пятнадцать так и не дождались этого в связи с депортацией карачаевского народа. Укажу пофамильно:
Бадахов Х.И., Биджиев С-Х.Л., Богатырёв Х.У., Гербеков М.Ч., Голаев Д.Н., Ижаев А.М., Каракотов Ю.К., Касаев О.М., Узденов Д.Т., Хайыркызов К-Б.А. Чочуев Х.А., - получили звание «Герой СССР»
Акбаев М.О., Бадахов А.М., Батчаев И.Ш., Бархозов А.Х., Гаджаев М.Ш., Деккушев М.М., Канаматов А.Э., Кубанов С.Т., Магометов С.К., Хайыркызов Ю.А., Хапаев А.Т., Хачиров Х., Чомаев Ю.Д., Чомаев Д.Ш., Шоштаев Н, - не награждены в связи с депортацией.
Как можно считать предателем народ численностью шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят семь человек, оставшихся после мобилизации в армию, собравший два с половиной миллиона рублей из своих скудных сбережений для строительства военных самолётов, отправивший для конной армии чистокровных, выносливых лошадей карачаевской породы, пославший множество тёплых вещей и многое другое, в чём нуждалась армия?
Как можно было считать предателем семью моего отца, ударного труженика колхоза? Отца солдата Красной армии? Сам он был участником трудового фронта по сооружению оборонительных укреплений вместе со многими карачаевцами. Мало того, наша семья в период оккупации села немцами спасла от гестаповцев еврейскую семью Горишиных: мать Марину, дочь Любу, сноху Екатерину (русская) и её сына Володю. Они были эвакуированы из блокадного Ленинграда и проживали в нашем доме в период оккупации нашего села Учкекен немцами.
Побудило меня об этом написать предвзятое, негативно-предубежденное мнение многих людей нашего Российского государства по отношению к национальностям Кавказа. Многовековые притеснения, беспощадные, кровопролитные экспедиции царской России на народности Кавказа, столетняя Кавказская война, многочисленные военные поселения в предгорьях Кавказа, на землях, некогда принадлежавших предкам нынешних горцев. Названия этих селений и казачьих станиц красноречиво свидетельствуют об этом. Так жили наши предки в осадном положении, вытесненные царской Россией в горные ущелья. И наконец, покорение горских племен огнем и мечом и присоединение их к Российской империи, которое ныне называется «добровольным присоединением». Это уже бесцеремонное искажение истины, имеющих место в истории событий и фактов. Вот только такое «присоединение» иные народности Кавказа, вопреки историческим фактам, торжественным празднованием отмечают придуманные юбилейные даты такого «добровольного» присоединения к Российской империи.
Что это, желание сокрыть таким угодническим обманным путем следы кровавых войн, ценою предательства павших в этих войнах своих свободолюбивых предков? Только так можно понять подобные торжества. Историю народов Кавказа мы хорошо знаем. Недостойно лепить фальшивые наклейки на ее страницы, выискивая в этом какую-то выгоду. Хочется сказать инициаторам таких придуманных событий, что для национальностей, живущих в современной России, то прошлое уже значения не имеет.
Итак, товарняк шёл, набрав нужную скорость, ритмично покачиваясь и стуча колёсами. В вагоне воцарилась относительная тишина. Видимо, это монотонность идущего поезда вызывала дремоту измученных за эти долгие часы треволнений у детей и взрослых. Из рассказов людей я узнал, что выселение было неожиданным. Во второй половине ночи в дома карачаевцев ворвались вооруженные солдаты внутренних войск НКВД и приказали собраться за 30 минут, взять с собой вещи первой необходимости и продукты. И сгоняли людей по несколько семей, в какой - нибудь двор или огород. Мужчин, несмотря на их возраст и инвалидность, заставляли лечь на землю животами вниз. И над каждой такой группой стояли солдаты. Они сопровождали женщин и детей в дома за продуктами и вещами. Но, не понимая сути происходящего, напуганные и растерянные люди не смогли, как следует собраться, взять из своих домов достаточное количество продуктов и вещей. И вот эти семьи на американских студобеккерах отвозили к товарным поездам и заталкивали в вагоны. В одном таком вагоне, как выше было сказано, по воле судьбы горькой оказался и я. У многих семей не было готовой пищи, чтобы накормить детей, и воды, чтобы напоить их.
Ехали четверо суток без воды и пищи. Ночи были очень холодные. Крепёжные болты вагона покрывались инеем. Из щелей двери вагона мне в спину и ноги дул холодный сквозняк. Нестерпимо холодно было по ночам. От болезни, холода и голода я сильно ослабел и временами впадал в забытьё, видимо, терял сознание. У меня не было возможности облокотиться на что-нибудь, чтобы хоть немного вздремнуть. Ночью с четвёртого на пятый день я почувствовал какое - то озарение памяти и мысли. Хотел что-то сказать, кому и зачем и что-не знаю, но не смог произнести ни слова, попытался встать с доски, упал, ноги не держали. Я их не чувствовал. Вдруг мною овладело такое безмятежное безразличие ко всему, что было и что есть вокруг меня. Даже не стал ощущать ни холода, ни голода, никакой тревоги в душе, а какая то умиротворённость. Плач детей, шум идущего поезда постепенно куда- то удалялись от меня, не касаясь моего сознания. Что это было, я не знаю, собиралась ли моя душа покинуть тело без агонии или что-то другое. Моё угасающее сознание не было способно к какому-нибудь анализу состояния моего тела, которое с каждым часом ослабевало. И, наконец, полный покой, полное отсутствие всяких чувств. Неизвестно, как я провёл ночь с четвёртого на пятый день, наверное, валялся всю ночь до утра трупом на полу у дверей вагона. Люди не могли в темноте ночи увидеть меня, сижу ли, стою ли или валяюсь на полу. Тем более, замечать меня и помочь малостью (я до сих пор убеждён) никто не желал.
Утром пятого дня слабым сознанием почувствовал, что кто-то несёт меня на руках. С большим трудом открыв глаза, увидел, что поезд стоит, люди высыпались из вагонов, кто- то кого- то ищет, кто- то кого- то зовёт. У меня в ушах сильно звенело, и я вновь погрузился во мрак. Оказалось, что нёс меня на руках к себе в другой вагон Халин Семёнов – мой однофамилец и близкий родственник. Он года на четыре или пять был старше меня. Семьи наши в Учкекене жили неподалеку друг от друга. Так я попал в семью Махамета и Забитхан. Кроме Халина, в семье у них в это время были две дочери - Супий и Хаулат.
Меня, полуживого, посадили в небольшое углубление между вещами. Пришёл в себя после нескольких повторов слов: «Джобай, (так меня звала тётя Забитхан) - постарайся открыть рот». Слова эти доносились до меня приглушённо, как бы с большого расстояния. Лицо тёти Забитхан тоже видел расплывчато, в тумане. Оно было такое большое, будто гора стояла надо мной. Каким-то образом тётя Забитхан сумела накормить меня супом через стиснутые зубы. Почувствовал, что она мокрой тряпкой обтирает мне лицо и руки. Я после этой трапезы забылся.
Оказалось, (потом я узнал) на пятый день на этой станции людям выдали горячий суп и хлеб. Поезд стоял на этой станции несколько часов. Говорили, что проводилось санитарное обследование и обработка вагонов. Усопших, если таковые были, выносили из вагонов. Тётя Забитхан, ещё раз разбудив меня, долго кормила, вливая в мой полуоткрытый рот маленькие порции супа. Я очень ослабел болезнью, пятисуточным голоданием и полным охлаждением организма, с трудом произносил слова сквозь зубы. Я по сей день не могу понять, что уберегло меня от воспаления лёгких и неминуемой смерти, по сей день не могу объяснить себе это чудо. Поистине, спасение – милость Всевышнего снизошла ко мне. Ещё одна ночь пребывания в прежнем вагоне, наверняка, моё тело стало бы пищей для нечистых птиц и бродячих собак у железнодорожной насыпи, как и трупы некоторых моих соплеменников, наскоро погребённых.
После второй порции супа я немного ожил, и сознание немного прояснилось, но ощутил нестерпимо сильную боль и покалывание в ногах ниже колен, отчего впору было заорать и лезть на стенку. Впервые за всё это время я застонал от боли.
В этом же вагоне ехала семья Боташева Кёкчюка. Он хорошо знал меня и нашу семью. Узнав о проблеме с моими ногами, Кёкчюк подошёл ко мне и, поздоровавшись, осмотрел мои ноги. Увидев сильно опухшие ноги ниже колен, он грустно покачал головой и сказал, что нужно будет снять ботинки, и что это может быть больно, надо потерпеть. Кёкчюк с трудом и с большой осторожностью снял с моих ног ботинки, словами отвлекая моё внимание от болевых ощущений. Но временами я не мог сдерживать непрошеный вскрик. Он обмазал мои ноги каким- то жиром, тепло обмотал их, положил поудобней и запретил мне чесать и гладить их. Ноги мои болели, зудели, горели, и сам я был в огне. Вчера тихо умирал, а сегодня терпел такие муки, видимо шла борьба жизни и смерти. В адских муках прошло несколько дней. Боли, покалывания и зуд немного поутихли. Тётя Забитхан не отходила от меня. Я медленно начал приходить в себя. Ведь имеющий начало имеет и конец, хороший или нежелательный. Кёкчюк каждый день разворачивал и проверял состояние моих ног. На третий день, осторожно потрогав синеватые пальцы, сказал, что они живые, и что я скоро поправлюсь.
В очередной раз, убедившись, что опухоль постепенно сходит, и пальцы ног начинают розоветь, он благодарно воздал хвалу Аллаху и сказал, что не ожидал такого быстрого выздоровления, что если так пойдёт, вскоре я буду бегать как прежде. Потом этот благородный, славной души человек признался, что, увидев в первый день моё состояние, он не имел никакой надежды на моё выздоровление, считал делом времени…
Тем временем жизнь узников вагона шла своим чередом: дети плакали, больные стонали, многие молились и просили милости и снисхождения у Аллаха.
Поезд шёл на восток. На коротких остановках люди выбегали в поисках съестного и воды. Кто-то успевал купить продукты у частных торговок, а кто-то возвращался с пустыми руками. Конвоиры были не так строги, как в начале. Видя каждодневно страдания и муки беспомощных людей, наверное, многие из них понимали жестокую несправедливость творящую над людьми, что и будило в них человеческую жалость. Который день это было, вспомнить не могу, Кёкчюк предложил мне попытаться встать с его помощью. Он почти сам поставил меня на ноги. Было очень больно и я, теряя сознание, рухнул на своё место.
Так в положении сидя ехал весь путь следования, окружённый заботами семьи Махамета и Забитхан до самой последней остановки в городе Манкенте, где и высадили нас. К этому времени опухоль ног почти сошла, и я мог стоять самостоятельно. Стоять я мог только на внешних сторонах ступней. Почему-то ступни были повёрнуты вовнутрь и было больно ставить их прямо, и двигался я в таком положении маленькими шажками.
Поезд стоял не на станции, вернее, это был какой-то тупик. Утро было холодное. Лужицы были затянуты тонкой коркой льда. Люди выгружали свой небогатый скарб из вагонов, складывая их в небольшие кучи вдоль железнодорожного полотна. Детей кутали в тёплые вещи, больных укрывали от холода. Рядом с нашими вещами у соседей на старой войлочной подстилке умирал тощий старик. Присев к нему, седобородый, приятной наружности мужчина читал молитву веры мусульман. Здесь я впервые увидел умирающего человека. Это было началом бесчисленных смертей на чужбине моих соотечественников. Отчаяние, боль страждущих душ, нищета унизительная, голод и слёзы скорбящих женщин по усопшим ждали нас – депортированные народы еще впереди.
Скоро по одной, две семьи начали развозить на арбах к местам жительства – на квартиры местных узбеков или поселяли в заброшенные пустые кибитки, кое-как заранее подготовленные к приему переселенцев. Нам выделили комнату в доме одного узбека. В семье Махамета я жил как полноправный член, более того, был окружён искренним вниманием и заботой. В то время не каждая семья могла согласиться принимать к себе, в свою семью лишний рот, когда все люди были озабочены проблемами выживания.
Ныне род этой семьи продолжают трое сыновей и две дочери Халина. Каждый и каждая из них имеет свою семью, живут хорошо, растят детей. Им я желаю долгой, благополучной, счастливой жизни. А ушедших в иной мир пусть Всевышний вознаградит всеми благами жизни вечной.
В скором времени в Манкенте открыли пункт по приёму шерстяной пряжи. Для открытия этого пункта усилий немало приложил и Норий Семёнов, бывший учитель начальных классов села Учкекен. Карачаевские женщины получали шерсть по весу и сдавали готовую пряжу. Таким путём зарабатывая на жизнь, многие семьи спасались от голодной смерти. Мне очень хотелось чем-то быть полезным приютившей меня семье.
Прошло немного времени как мы стали жить в Манкенте. Я уже мог ходить, прихрамывая, был очень слаб, но особого недомогания не чувствовал. Несмотря на запреты старших и свою слабость, помогал Халину заготавливать дрова. Он раскалывал старые пни, я собирал поленья и помогал, по силе возможности, относить их домой. Иногда рабочие столярной мастерской разрешали нам брать отходы древесины. Из этих отходов я научился изготавливать прялки. Накинув на себя старый плед, выносил на базар свои изделия. Благо, на них тогда был спрос. Однажды день был очень холодный, шёл мокрый снег, было сыро и слякотно. Люди покупали их, может, от жалости ко мне или по необходимости. Цены я не называл, что давали, за то и отдавал. Домой я пришёл сильно озябший, и, когда я радостно протянул деньги тёте Забитхан, она с печальным укором сказала: «Сынок, ты однажды умирал, Аллах помог тебе выжить, посмотри на себя, ты весь мокрый и дрожишь от холода, с твоим ли состоянием в такую погоду ходить по базарам. Будь я дома в такую погоду, не пустила бы тебя никуда, ради Аллаха, больше так не делай. Что я скажу твоим родителям, не дай Аллах, если ты снова заболеешь. А родители твои обязательно найдутся. Вон две сестры твои больные лежат, а у меня не хватит сил ухаживать за всеми вами». Тетя Забитхан накормила меня чем-то горячим, помогла раздеться и уложила в постель, тепло укрыв. Но, несмотря на ее протесты, я не мог не заниматься своим «ремеслом». Оно дарило мне радость, возвышенную от чувства своей полезности этой благородной семье, хотя и понимал, что моя польза – мизер по сравнению с тем, какую заботу проявляла она ко мне. Несмотря на всё ещё дающей о себе знать боли в ногах и слабость, я часто забегал в столярную мастерскую. Там я восхищался работой пожилых узбеков, мастерски изготавливавших детали для бричек. Узнав, чем я занимаюсь, они, бывало, делали для меня заготовки к следующему моему приходу. За заготовки я искренне благодарил их. Они хвалили меня и довольные улыбались. Возвратившись, домой, продолжал мастерить прялки. К середине января 1944 года за мной в город Манкент приехала моя мама. Встреча была радостной и грустной. Мама и Забитхан долго разговаривали, вспоминали своих сыновей, воевавших на фронте, мама – своего Рамазана, а Забитхан – Абдурахмана, погибшего на войне еще в 1942 году. И двух других сыновей, находившихся на фронте. Немного всплакнули. И из разговора с Забитхан мама узнала, что Нори Семёнов (о котором мы уже говорили) проживает в Манкенте и недалеко. Оказалось, что Нори в Учкекене у наших в займы брал две тысячи рублей, и мама надеялась, получив их, отблагодарить Забитхан за меня и иметь какие-то средства для выживания семьи. Вечерело. Мама взяла меня с собой, и мы отправились к Нори. После обычных приветственных слов она попросила его вернуть долг. Нори категорически, в грубой форме отказался вернуть деньги. Мама доказывала, что если бы эти деньги были у неё, её семья не знала бы нужды. Но Нори, видимо, думал иначе, мол, пусть семья Гемха голодает, лишь бы выжила его семья даже за счёт чужих денег. После короткой перебранки с Нори нам пришлось вернуться ни с чем.
Мы уезжали на следующий день. Было очень грустно расставаться с семьёй, ставшей родной для меня за это время, фактически спасшей меня от смерти. Когда я прощался с постельно больными дочками Забитхан, плакали они, плакал и я. Это были слёзы временного расставания с надеждой на позднюю встречу. Позже мы получили известие, что обе они скончались. Я снова заплакал горькими слезами скорбящего брата по усопшим сёстрам. Пусть жилищем им будет рай.
Семья Махамета и Забитхан состояла из 9 человек. Старшая дочь Джаухар имела свою семью. Сыновья: Абдурахман, Абдуллах, Халис находились на фронте. Как ранее было сказано, Абдурахман погиб на войне в 1942 году. Еще до нашего выселения семья Махамета получила похоронное извещение на погибшего на войне Абдурахмана. Абдуллах и Халис тоже не вернулись с фронта. Вероятнее всего они тоже погибли. Так за короткое время семья Забитхан потеряла троих сыновей на фронте, двух дочерей и мужа Махамета в депортации. Тетя Забитхат осталась с младшим сыном Халином. Горькие утраты, беспощадные удары судьбы, бесконечные угнетающие заботы по выживанию обрушились на благородную тетю Забитхан. После реабилитации, она с семьей Халина вернулась в с. Учкекен. Отошла она в иной мир в 1973 году. Да будет Раем ее вечная обитель.
В Манкенте проводница пассажирского вагона отказалась нас, безбилетных, впускать в вагон. Но когда поезд начал двигаться, мама решительно вскочила на ступеньки вагона, одной рукой держась за поручни, другой пыталась поднять меня, и я встал на первую ступеньку. Поезд быстро набирал скорость. Испуганная проводница, выругавшись крепким матом, помогла нам влезть и завела в вагон. Она ещё немного ругалась, но вскоре завела мирную беседу с мамой. Когда эта добрая женщина узнала о нашем положении, она настолько расчувствовалась, что угостила нас сладким чаем и не взяла с нас денег за проезд. Так благодаря этой женщине мы благополучно добрались до города Джамбул. Мама искренне поблагодарила её, мы тепло простились и сошли с поезда. От города Джамбула до Табаксовхоза, где в это время проживала наша семья, пришлось пройти пешком. Мне было тяжело идти, слабость, больные ноги и голод. С утра с мамой поделили кусок лепёшки. Я очень старался не показывать ей, чего мне стоила эта прогулка пешком. Мы часто останавливались.
Наверняка, тётя Забитхан рассказала маме, что произошло со мной. Всё же право изречение – «Дорогу одолеет идущий». Мы, сильно уставшие, добрались до Табаксовхоза. Было много эмоций и слёз радости. Вскоре родители решили перебраться в кишлак колхоза имени Крупской, где жили родственники отца. С утра, нагрузив на арендованного осла и на себя наш скудный скарб, мы все семеро членов нашей семьи: родители, четыре сестры и я – отправились в путь. Пока мы шли по равнинной местности, усталости не чувствовали. Но вскоре начался подъём. Тропа проходила через невысокие горы. Две сестры были младше меня – Патия одиннадцати лет, Сонечка – восьми, старшей Рабият – семнадцать, средней Хаулат – пятнадцать.
День был туманный, сырой, холодный. Мы быстро уставали, и приходилось делать частые привалы. К концу дня, изрядно усталые и голодные, добрались до кишлака. Врач местной больницы разрешил нам временно поселиться в свободной комнатке, видимо, была договорённость. Через несколько дней переехали в двухкомнатную кибитку. Домик принадлежал одинокой, лет сорока пяти, женщине киргизке. Она переехала в селение Коксай (зелёная долина, красиво звучит) к родственникам, домик свой оставила нам. Колхоз имени Крупской относился к Кировскому району, Таласской области Киргизской ССР. Если в Табаксовхозе люди имели какую-то работу, и труд их вознаграждался пайком хлеба или деньгами, то в кишлаке в зимнее время не было никакой работы. Вопрос как жить дальше, как бороться с нищетой и голодом, со всей своей угрожающей голодной смертью стоял перед каждой семьёй спецпоселенцев. Государство выделяло нам зерном пшеницу, но ее категорически не хватало видимо, пока она доходила до людей, сильно убывала. Как говорится, горе не приходит в одиночку. Ослабевшие люди стали часто заболевать, нередки были случаи заболевания тифом. Непривычные климатические условия, нехватка питания, антисанитария, нехватка чистой воды (вода была арычной) и топлива способствовали этому. Самыми тяжёлыми для моего народа были 1943-1945 годы. Особенно зимне-весенний период 1944 года, унесший много жизней моих соотечественников. Мой народ, отдав свои скудные сбережения государству в помощь авиастроителям, к моменту выселения остался безденежным и к тому же, из имеющегося своего имущества и продуктов многие семьи взять с собой достаточное количество не смогли из-за ограниченности времени, растерянности, шока и излишней строгости выполнявших выселение солдат и офицеров. К началу 1944 года у большинства семей не осталось ни вещей, ни продуктов. Имевшиеся вещи были обменены за полцены на продукты, а продукты уже кончились. Началась чёрная полоса беспощадной нищеты, голода и смертей. В этот период было особенно трудно одиноким старикам и вдовам с малолетними детьми. Их-т
о и косила смерть. Мы помогали предать земле тела усопших. Их застывшие скорчившиеся тела выбирали из соломы вперемешку с лохмотьями старых рваных одеял и, погрузив на арбы, отвозили на кладбище. Там, опустив их в ямы старых обвалившихся могил, закапывали, как могли. В это время взрослых мужчин, чтобы заниматься похоронами, почти не было. А более или менее трудоспособных мужчин отправляли на лесоповалы, на строительство Чуйского канала и в шахты, откуда многие и не вернулись.
Я видел у только что усопшего старца на открытой тощей груди, на лице и в провалившихся глазницах, как муравьи встревоженного муравейника бегавших паразитов. Люди говорили, что паразиты чувствуют отсутствие тёплой крови и в панике ищут себе другое пристанище. Собравшиеся, скорбно опустив головы, подавленные общенародным горем, печально смотрели на эту картину – на великую трагедию моего народа.
Так мой народ в годы депортации от голода, болезней потерял половину своих людей, из них большинство были дети, будущие граждане моего народа.


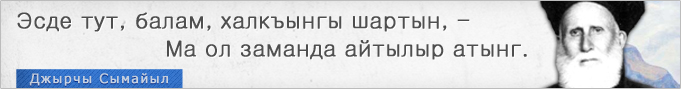












Комментариев нет