 Translit
Translit
Покорение Карачая и присоединение Балкарии
Покорение Карачая
<...> Как отмечают исследователи, "цепь постов и караулов как бы огибала границы карачаевских земель, первоначально проходя по ущелью реки Джегуты и затем на Куму, где стояли посты: Таркачинский, Джеганасский, Кладбищенский, Бекешевский, Карантинный. Посты появились также в верховьях рек Подкумка, Эшка-кона, Хасаута. Таким образом, запертый в горные ущелья Карачай еще в первой четверти XIX века был окружен цепью российских укреплений, постов, караулов и пикетов, создававших как бы карантинную зону, призванную обеспечить безопасность российских владений. Помимо оборонительных и оповещательных функций на солдат и офицеров возлагалась разведывательная роль... Таким образом, создание на границе Карачая кордона из военных постов явилось важнейшим элементом военно-колониальной политики России по отношению к Карачаю и главной составной частью военного режима" (Бегеулов Р.М., "Карачай в Кавказской войне ХIХ в.").
Царские генералы рассматривали договор о нейтралитете (заключен в 1826 году - "Э.") лишь как вынужденную отсрочку присоединения Карачая к империи. Они отмечали, что через Карачай проходит "единственная дорога, удобная для скрытого проезда закубанских народов в наши границы на хищничества... и что сие только сообщение беглых кабардинцев и закубанцев с карачаевцами дает возможность паше Анапскому действовать из-под руки на горские народы: ибо как хищники, так равно и посылаемые от него для обольщения доверенные люди всегда находят у карачаевцев убежище" (Бегеулов Р.М., "Карачай в Кавказской войне ХIХ в.").
На те же мотивы "заинтересованности в Карачае" указывает и рапорт генерала Паскевича: "Генерал Эмануэль (новый командующий русскими войсками на Кавказской линии. - Авт.) доносит, что для обеспечения спокойствия на Линии он счел нужным предпринять экспедицию против карачаевцев - народа, живущего на снежных высотах Кавказа, в вершинах Кубани, который в надежде на неприступность земель своих безбоязненно давал убежище и помощь кубанским хищникам, через его земли проходившим для произведения набегов в пространстве между Кубанью и Тереком" (Цитата по: Бейтуганов С.Н., "Кабарда и Ермолов", стр.116).
При составлении плана похода в Карачай царские генералы "вовремя вспомнили о бежавшем из Карачая в 1826 году Тенгизбии (Аман-тише) Дудове, который находился в Нальчике. Последний дал важные сведения о дороге, ведущей к Карачаю с северо-востока из района Пятигорья, в обход долины Кубани, и согласился быть проводником русских войск. Так личная ненависть к Крымшамхаловым и анапскому кадию переросла в предательство Родины. Русское командование нашло также еще одного знатока местности близ Карачая - кабардинца Атажуко Атажукина - и с помощью этих двух предателей разработало план военного похода на Карачай" (Бегеулов Р.М., "Карачай в Кавказской войне ХIХ в.").
20 октября 1828 года произошло кровопролитное 12-часовое Хасаукинское сражение, в ходе которого царским войскам (они находились под личным командованием Эмануэля), оснащенным артиллерией, удалось одержать верх над карачаевским ополчением. (Войска Эмануэля потеряли убитыми и ранеными 163 человека, что превосходило потери русских в сражении с 30-тысячным корпусом Батал-Паши).
Карачаевские верхи во главе с олием Карачая князем Исламом Крымшамхаловым предприняли шаги по недопущению погромов карачаевских селений. На следующий день после сражения, когда войска Эмануэля уже подходили к Карт-Джурту, им навстречу вышла карачаевская депутация во главе с олием Исламом Крымшамхаловым. Русский командующий принял ее для переговоров, в итоге которых в Карт-Джурте было составлено обращение карачаевских верхов о принятии в подданство империи.
"Условия этой присяги были не особо тяжелыми. Они во многом повторяли статьи договора от 1826 года. Карачаевцы обязывались не принимать у себя никого из непокорных горцев и не оказывать им помощь, возвратить всех пленных солдат и дезертиров, угнанный скот и другое похищенное в набегах имущество, не пропускать через свои земли отряды закубанских горцев, а если не были в состоянии это сделать, по причине их многочисленности, то давать знать о появлении неприятеля на ближайший российский пост. Было оставлено в неприкосновенности все внутреннее самоуправление Карачая: должностные лица и суд. Разбирательство дел с соседними мусульманскими народами продолжало осуществляться по народным обычаям и шариату. В Карачай даже не назначался пристав, но на этот раз от карачаевцев были взяты аманаты в залог их верности присяге" (Бегеулов Р.М., "Карачай в Кавказской войне ХIХ в.").
Присоединение (во многом еще формальное) Карачая к империи считалось очень важным достижением царских генералов. Г. А. Эмануэль сравнивал свою победу с овладением знаменитыми Фермопилами (в иной транскрипции - "Термопилами"). "Термопилы Северного Кавказа, - доносил генерал, - взяты нашими войсками, и оплот Карачаева у подошвы Эльбруса, для всех горских народов враждебных против России, помощью Божией и храбростью войск, под личным моим предводительством, разрушен" (Социально-экономическое, политическое и культурное развитие народов Карачаево-Черкесии. 1790 - 1917. Сборник документов. - Ростов-на-Дону, 1985 г., стр.39).
Столичная газета "Северная пчела" писала в те дни о факте присоединения Карачая: "Блистательный успех предполагает путь к успокоению всего края Кавказского... Пример покорения сего народа, почитавшегося у всех горских жителей самым непобедимым, дает прочим подумать о возможности повторить с ними таковое же происшествие" (Бегеулов Р.М., "Карачай в Кавказской войне ХIХ в."; газета "Северная пчела". - СПб., 1828, 22 ноября, № 140).
Присоединение Балкарии
После опустошительных завоевательных походов в Кабарду (1804, 1809 - 1810, 1821 - 1822 г.г.), завершивших ее окончательное присоединение к России, царские войска открыли свободный проход к пяти горским обществам Балкарии. Их жители осознавали, что беспощадный нрав царских генералов может жестоким образом проявиться в случае сопротивления упорному продвижению империи к Главному Кавказскому хребту.
При Ермолове (1822 г.) выходы из балкарских ущелий были "заперты" восемью русскими военными форпостами, шестью крепостями (Каменный Мост на реке Малка, Баксан, Чегем, Нальчик, Мечетка, Урвань) и двумя укреплениями (Черек и Урух).
В таких условиях таубии упредили вторжение в свои ущелья и в 1827 году признали над собой власть российского императора. Верность принятой кнезьями присяге была позднее "высочайше" отмечена: в декабре 1852 года князья пяти балкарских обществ были приняты самим императором Николаем I, который удовлетворил их просьбу "о восстановлении титула таубий", то есть именования их не по-русски "старшинами", а балкарским названием - "горский князь".
(Р.Тебуев, Р.Хатуев, "Очерки истории карачаево-балкарцев", Москва - Ставрополь, 2002)


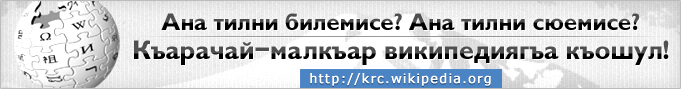












Комментариев нет