 Translit
Translit
Пространство поэта
03.11.2015
0
5054
Трудно было начать эти заметки – еще не умею думать о нем в прошлом времени. Кажется, вчера лишь, возвращаясь поздним вечером с юбилея, посвященного памяти Тициана Табидзе, мы бродили по Тбилиси под вековечными платанами в окружении смутно маячивших очертаний гор, и луна плыла над миром. В гостиницу не хотелось. Как бы предчувствуя, что не много нам выпадет таких вечеров, Кайсын упивался стихами, завораживая и меня. Память его поистине была феноменальной. В его сердце жили Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Есенин, Низами, Физули, Пастернак, Твардовский, Верхарн... Он знал поэтов, как своих родных братьев. Любил и гордился ими. А сколько великих композиторов, художников, философов озаряли его жизнь! Но общение с ними было заповедным. Он готовился к нему. Должен явиться особый час, когда встреча могла бы состояться. И встреча случалась. Как, например, эта:
Снег идет.
Как он шел при моем отце,
Снег идет,
Как он шел для отца в Чегеме.
Снег идет,
И, глазами следя снегопад,
Наконец-то вчитаюсь я пристально в Лорку.
Снег идет,
Над орешиной и алычой,
Как в тот день,
Когда шел я из леса домой
И с чинаровым хворостом ослик за мной.
Снег идет,
Снег идет,
И, следя снегопад,
Наконец-то я вслушаюсь зорко в Шопена.
Снег идет
Над орешиной и алычой,
Снег идет, Снег идет,
Снег идет,
Белый-белый!..
(Перевод О. Чухонцева)
Поразительна инструментовка стиха. Лейтмотив – белый снег, который, это ощущаешь почти физически, идет. Величие и торжественность. Веришь, что именно в такие минуты воскресает прошлое.
Кайсын Кулиев никогда не стремился к тому, чтобы, как принято говорить в обиходе, приобщиться к культурному наследию. Он иронизировал над благоприобретенной эрудицией ради эрудиции, считал это формой духовного потребительства, иждивенчества. Не овладеть, но – стать сотворцом прекрасного! Нерукотворного! То есть выстрадать его, пережить в своем сердце.
И он был необычайно счастлив, когда имел святой повод признаться в любви к искусству.
«О безымянные поэты моей древней земли, простые и великие! Я, знающий сегодня Данте и Шекспира, Пушкина и Мицкевича, удивленный и восхищенный, склоняю голову перед силой вашего таланта! Вы слагали свои песни, вися над пропастью, идя за деревянным плугом или ночью проезжая верхом через тесное ущелье, откуда едва виден синий клочок неба с крупными звездами. С тех пор прошли века, окутанные туманами, как горы в пасмурную ночь, и освещенные грозой. Но порывы вашей души, ее мужество и доброта дошли и до меня, и я как бы коснулся их рукой, словно стали кинжала старинной работы, до сих пор не потерявшей остроты и блеска. Вы еще раз убедили меня в том, что прекрасно хорошо сделанное дело, какое чудо – талант! Милые и неподкупные кудесники, вы высоко несли знамя души своего народа, ни разу не уронив его, и оно поныне развевается над нами».
Из этого он делал справедливый вывод, что каждый народ, как и природа, заботится о своем бессмертии.
В этом Кайсын видел главный смысл поэзии. В XX столетии же значение поэта, по его мнению, расширилось до общечеловеческих горизонтов, ибо ответ приходится держать за судьбу всего человечества. И вот что самое, по-моему, примечательное: он не сомневался, что мы живем в такое время, когда вся мировая культура, вся история, которую он полагал как необоримое поступательное движение к гуманизму, должна восстать против бесчеловечности, в какой бы форме та ни заявляла о себе. На этом основывалась его неколебимая уверенность, что поэты, где бы и когда бы они ни жили, обязательно поймут друг друга. Так, Кайсын с радостным изумлением заметил однажды, говоря о народном певце, своем первом и незабвенном наставнике Кязиме Мечиеве: «Ведь он во многом близок Лермонтову».
Кажется, он сводил в своем сердце великих предшественников на «пир», а сам был лишь чутким внимателем их мудрых бесед.
Предполагаю, он хотел влюбить их в свою землю, как сам был влюблен в целый мир; и, влюбив, сделать «богами» очага, гор и рек, которые отныне те охраняли бы своим невидимым присутствием.
В поэзии самого Кайсына отчетливо слышны голоса многих разных, своих и иноязычных, поэтов, что не мешает ему оставаться самим собой; и, напротив, в этой особенности его поэзии ярче проявлялась неповторимость собственной индивидуальности, огромной личности Кайсына Кулиева. Ибо чувства и мысли, открытые и выношенные поэтом другого народа, он проводил через опыт, судьбу своего народа. Как через огонь. Возвращал его людям в новом, небывалом качестве. Это хорошо, на мой взгляд, выразил А. Тарковский, делясь впечатлением о поэзии К. Кулиева: «...я стал искать в ней больше то, что называется местным колоритом. Я искал то, с чем мы сталкиваемся сплошь и рядом, когда имеем дело с поэзией малых народов, то, что является местным, ограниченным, что мы... принимаем за местный колорит. Этого я не нашел. Потому что стихи Кайсына Кулиева – это настоящая поэзия.
Кайсын Кулиев – поэт небольшого народа, вышедший на общечеловеческое поприще поэзии. Кайсын Кулиев говорит от лица своего народа. Он – поэт всего мира... Интересы всего человечества, очень широкие слои всего человечества нашли уста в этом поэте».
Интернационализм, считал Кулиев, можно рассматривать и как неопровержимый факт поэзии в том смысле, что идея дружбы и братства людей земли, все более и более захватывающая воображение современника, имеет изначально общечеловеческое содержание. Вот почему – вдруг! – оказывается, что поэт, скажем, X века, творивший где-нибудь в армянском монастыре, близок поэту нашего времени, что прочувствованная народность и гражданственность Пушкина нам дороже и ближе, да и нужнее, чем, может быть, для многих его современников.
О чем это говорит? Черпая вдохновение в прошлом и настоящем, поэзия предугадывает будущее, формирует историческое мироощущение поколений.
Духовное родство, которое Кайсын безошибочно обнаруживал у самых разных поэтов, укрепляло в нем чувство мира как единого дома человечества. Естественно, что зародыш этого чувства – врожденная любовь к «малой родине», к Чегему, через который благодаря Кайсыну ныне пролегает одна из дорог современной мировой поэзии.
Расцветая, являя в своем мыслительном порыве идею всеобщности, чувство мира выводит дух человеческий на просторы вселенной, к звездам – в пространство поэзии и мечты, где человек подобен птице.
Не случайно последняя книга К. Кулиева называется «Человек. Птица. Дерево».
Но человек должен вернуться к отчей земле, чтобы реально почувствовать, как:
И снова входит жизнь в свои права,
Я царь земной и бог, сошедший с неба;
И обретают вечные слова
И свежесть трав, и первозданность хлеба.
(Перевод Н. Гребнева)
Перекликаются эпохи. Эхо Державина? Несомненно. «Царь» и «Бог» – не дань старой, архаичной традиции, но искреннее уважение к чувству-мысли поэта, благословившего Пушкина, желание через «многия лета» постичь гот бунтарский, сокровенно живой мир человека, который искал выражение в слове. Слове-пророчестве, к чему настоящий поэт причастен «невольно»:
Все, что пел я, пел я поневоле,
Погибал я у земли в плену,
Видя золото пшеницы в поле
И подсолнечную желтизну.
Пел я, видя море в отдаленье
И скалу, подернутую мглой,
Потому что сам я на мгновенье
Становился морем и скалой.
(Перевод Н. Гребнева)
Поэту мало быть только человеком. Он должен стать морем, скалой, облаком... Но... на мгновенье. Этого мгновенья достаточно, чтобы вместить в себя вечность, ибо, пережитое с потрясающей энергией, оно дает человеку ощущение бессмертия, неслыханной муки и радости перевоплощения, полноты жизни.
Не странно ли, в тот тбилисский вечер Кайсын вдруг начал читать:
Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о друга, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: :-то он;
Вот речь его. И я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо, и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь. И, может быть, утешен буду я Любовью...
Следуя за ощущением-мыслью своего любимого поэта, Кайсын всем существом неистово, почти фантастически, но отнюдь не суеверно был убежден, что настоящий поэт не умирает «весь» (кстати, как поздний Пушкин поправил себя, раннего).
Как-то Кайсын заметил, что любить поэта – значит быть готовым отдать жизнь за него. И, помолчав, добавил: «Читать поэта-друга, как думал Пушкин, – величайшая радость общения, возвращение, пусть на время, жизни тому, кого любишь». Вообще он верил, мне кажется, что жизнь не уходит, а приходит к человеку, которому не жаль поделиться с людьми своей жизнью.
Вот почему, я думаю, в неприятии, в не смиряющемся до конца чувстве утраты близкого человека заключен, возможно, какой-то извечный закон сопротивления и самосохранения бытия, живой памяти, спасающей нас от безнадежного отчаяния, из какого мы не нашли бы исхода, согласись, что, увы, тут уж ничего не поделаешь и не стоит бесполезно надрывать сердце. Сам Кайсын не признавал подобных, неотразимых, казалось бы, доводов обыденного, робкого рассудка, хотя мало кто так остро переживал и скорбел при вести о чьей-то кончине. Он не искал уверток, как иные, кто легко способен заслониться от беспощадной реальности красивой изящной ложью. И говорил об этом так, будто заранее заказывал себе все пути к любому отступлению:
Я не скажу, что малодушней всех,
Но говорить, что уходить не больно, –
Великий грех, особенно для тех,
Кто приобщен к пророчествам невольно...
А лгать поэту – это все равно,
Что предавать друзей забвенью смерти.
Каким бы горьким ни было оно,
Лишь слово правды – в высшем милосердье...
(Перевод О. Чухонцева)
Это сказано перед лицом смерти. Но разве жить подчас не больно? Бывает – больнее. И Кайсын Кулиев испытал это сполна. «...Да, людям было трудно, очень трудно в наш грозный век, но они выдержали все – и выдержат все, что предстоит им испытать».
Испытать все...
Сам Кайсын, как раненый камень – неизменный символ его поэзии – мог сказать о себе: «Я все выдержал». В этом «все» – суровая биография времени, народа и человека, через чье сердце прошли жгучие токи великих и трагических событий истории; но не испепелили его, а закалили, пробудили в нем ответное мужество и достоинство – чувства, не испытай которые, человек не вправе считать себя человеком, гражданином «грозного века»:
Судьба, склоняюсь низко пред тобой,
Благодарю, что в пору лихолетий
В огне, под снегом или под водой
Мой смертный час нигде меня не встретил.
Я мог и за решетчатым окном,
Где моего никто б не слышал зова,
Окончить жизнь и в мертвый глинозем
Лечь, не увидев края дорогого.
...Спасибо, что за все мои грехи
Меня ты не лишила дара слова,
Что ветром разнесенные стихи
Ты помогла собрать и вспомнить снова.
Что ты вернула мне, пока я жив,
Снега Эльбруса и рассвет Чегема,
За то, что был я только молчалив –
В те дни, когда другие были немы.
(Перевод Н. Гребнева)
Время пронзительно отпечаталось в стихах Кайсына. Его знаки и символы – не отвлеченная условность, в них – боль и горечь, сострадание и нежность эпохи, человека, преодолевающего тернии на пути к звездам. А мужество поэта – что ж, оно свидетельство тому, что сердце, устремленное к добру, сильнее и тверже камня, ибо способно понять его немую боль и, переживя невыносимое, оставаться добрым и ранимым – воистину человечным. Да, поэзия Кайсына – документ эпохи. И в то же время – кардиограмма его сердца, чутко реагирующего на малейшие колебания в духовном мире современного человека. Его творчество еще раз убеждает, что писать надо не на тему современности, а современностью. Болью и кровью.
Вот почему он имел право сказать:
Поэзия – разве это слова?
Радость и Горе – вот она.
Лицемерие, лесть неизвестны ей,
Как солдату, принявшему бой.
На горы и на ребенка похожа она,
На дерево и на облако,
На речку, сверкнувшую на заре,
На огонь, что пылает зимой в очаге.
Нет, Поэзия – не слова,
А подсолнух, едва освещенный луной.
Поэзия – разве это слова?
Жизнь и Смерть – вот она.
(Перевод Я. Акима)
В этих строках – ключ к судьбе Кайсына Кулиева. Он словно подсказывал нам, читателям-друзьям, как воспринять (не считывать равнодушными глазами с листа) его стихи: в них подлинность поэзии, которая была его исповедью, а теперь оказалась завещанием.
Я прекрасно представляю, что ни в каком предисловии невозможно во всей полноте раскрыть духовный мир большого поэта, как Кайсын Кулиев, и не ставлю такой задачи. Хочу, – перечитывая его жизнь, «свиток верный», – вернуть, может быть, счастье общения с ним и глубже, теперь через скорбь, уяснить, чем он был и остался для нас, живущих, и для поэзии. Что завещал нам поэт, имя которого – Кайсын Кулиев? Какие непреходящие уроки духа, добытые им в жизни и творчестве, он оставил людям?
Принять их с благодарностью, поняв их настоящую цену, как раньше понял поэт:
Ночь миновала. Отчий дом и двор
Сияли светом радости чудесной.
Узнал я цену жизни, житель гор,
И жарким днем лежу в тени древесной.
Свет был на всем. Он внове освещал
Улыбку матери и взгляд любимой.
Меня, по счастью, миновал обвал,
И вот лежу, живой и невредимый.
Ужасный гул остался позади.
Как вкусен белый хлеб с водою горной!
Вкуси покой и радость обрети,
Душа, бедой испытанная черной!..–
(Перевод О. Чухонцева)
невозможно без того, если мы, читатели, не приблизимся к жизни и сердцу поэта, не будем знать, каким тяжким трудом души достались они ему и что значили в его собственной судьбе? «Поэзия вдвойне сильней, когда она подкреплена делами и кровью ее создателей. Я убежден, – писал Кулиев, – что поэт в трудные для родной земли дни обязан находиться на переднем крае. Трусость и малодушие так же неприемлемы для поэта, как отсутствие воображения или чувства стихии родного языка».
Воображение приравнивается к героизму. Героизм – не только храбрость солдата на войне. К. Кулиев это доказал в полной мере: он был десантником в годы Великой Отечественной войны. Героизм в мирной жизни – мужество одолевать страх грядущего, над которым нависла угроза уничтожения.
Человек слабый духом готов возопить от ужаса, проклясть свою судьбу или, напротив, с самозабвенным, отчаянным весельем самоубийцы предаться сомнительным удовольствиям, чтобы таким образом встретить «последний час». Зрелище печальное. Но причины-то для ужаса куда как обжигающе реальны, есть отчего прийти в растерянность, поддаться слепой панике. Человечество вдруг (!) стало смертным. Это произошло 6 августа 1945 года:
...Открытие всегда необратимо,
И перед ним его создатель – раб...
Молчал Эйнштейн, узнав про Хиросиму,
Он был, как я, беспомощен и слаб.
(Перевод Н. Гребнева)
Беспомощен сам Эйнштейн. Его трагедия – первая такая трагедия, переживаемая человечеством в своей истории. Для нее еще нет слов. Вот почему великий физик молчит. А что делать простому человеку? Ему-то как быть? Жить как? Ведь рухнула вера в бессмертие человечества, в будущее. Жизнь катастрофически обесценилась. К. Кулиев понимает и разделяет пронзительность драмы человеческого существования в сегодняшнем мире. Тем более что вчера все было иначе:
Жил отец мой, он веровал в Бога,
Им вовек не владела тревога
О судьбе нашей милой Земли,
Потому нам труднее намного Жать на свете...
(Перевод Н. Гребнева)
И что делать нынешнему поэту? Он-то не имеет права молчать! Что бы делал Пушкин? Но... «этих тревог не могло быть не только во времена Пушкина, но и во времена Блока». Значит ли это, что жившим до нас было «легче»? Ничуть не бывало. Быть Человеком – никогда не легче.
Что до искусства, главный смысл и цель его неизменны – заставлять читателя полюбить жизнь во всех ее разнообразных проявлениях. И в таких – не поддающихся, казалось бы, переживанию? Способных убить ум, воображение? Вот почему воображение равно героизму. Кажется, лучше – легче? – отступить, отступиться от невероятно трудной задачи. Но это для поэта хуже смерти – «великий грех», ничем не искупимый в истории, позор перед будущим. Совершить его – предать Поэзию. К. Кулиев ищет и находит вдохновляющий пример подвига в истории мировой литературы. Данте, чтобы преодолеть ад, вошел в него. Он должен был пройти невероятное, чтобы выйти к людям. Что вело его? Любовь к жизни. Та великая, необыкновенная любовь, которая, по убеждению Толстого, уничтожает смерть и превращает ее в пустой призрак, обращает жизнь из бессмыслицы в нечто осмысленное, из несчастья делает счастье.
То, что первым в схватку со «смертью» вступает поэт, – отнюдь не в укор «непоэтам». Просто он в известном смысле более подготовлен, знает, что может ждать его на этом тернистом пути.
Вот что в 1948 году писал Кулиеву Борис Пастернак:
«Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливыми в любом положении, даже в горе. Тот, кто очень рано или при рождении получает от нее несколько, все равно каких, нравственных, душевных или физических задатков, но выраженных до конца и не оставляющих сомнения, тот в завидном положении вот почему. На примере самого себя (а это ведь очень удобно: каждый всегда под рукой у себя), на примере именно этих выступающих качеств рано убеждается он, как хорошо и в мире все законченное, недвусмысленное, исправное и образцовое, и на всю жизнь пристращается к самосовершенствованию и охватывается тягой к совершенству. Прирожденный талант, конечно, есть путь к будущей производительности и победе. Но не этим поразителен талант. Поразительно то, что прирожденный талант есть детская модель вселенной, заложенная с малых лет в Ваше сердце, школьное пособие для постижения мира изнутри с его лучшей и наиболее ошеломляющей стороны. Дарование учить чести и бесстрашию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь в общедраматический замысел существования. Одаренный человек знает, как много выигрывает жизнь при полном и правильном освещении и как проигрывает в полутьме. Личная заинтересованность побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгодная и счастливая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно. В Вас есть эта породистость струны или натянутой тетивы, и это счастье».
Мастер угадал в молодом тогда поэте счастливого человека. Вот почему он благословил его, брата по духу, на «старинное дело» – служение поэзии, веря, что никакая трагедия его не сломит, что неодолимое стремление к правде укажет ему единственно правильную и достойную дорогу чести.
Кайсын естественно сочетал в себе землепашца и рыцаря. Он был человеком высоких нравственных принципов, правил, от которых не отступал никогда. Ему органически был чужд конформизм. Для него не было и не могло найтись причины, побудившей бы его к компромиссу, к сделке с совестью. Нечего говорить, что это значит в иные времена. Быть со своим народом в радости и горе – в этом весь Кайсын.
Честь. Она проявлялась и в гордости, с которой он нес, как знамя, звание Человека, всегда и везде помнящего, откуда он родом. Горец, Кайсын говорил: «Выше нас только небо и солнце». Но в этих словах и в том, как они звучали в его устах, не было ни малейшего намека на кичливость. Ведь это же относится к любому человеку, чей дух окрылен мечтой о свободе, о счастье для всех людей.
Человек чести не боится задавать себе самые острые и трудные вопросы. Он не передоверяет их «специалистам», кто не прочь бы взять на себя труд мыслить за него.
«Что есть сама жизнь?» – вопрос, переставший быть прерогативой только философов. Он неотвратимо, в новом качестве, требующем общих усилий для постижения жизнестойкости и обретения «вкуса к действительности», встал перед человечеством, перед каждым человеком. Мы едины в нем. И мы в нем равны. Человек – творец собственного отношения к миру и к себе. В этом его необходимый долг. Жажда творчества побуждает человека к активному действию, благодаря чему он становится современным человеком, ибо отныне не согласится ни на что иное, как на движение вперед, к новому.
К. Кулиев верил, что в этом высшем смысле любой человек – стихийный поэт. Но поэзия, как он понимал ее сущность, – не профессия (не слова); это выстраданное мироощущение, тяга к «вечным» проблемам бытия.
Его «слово» – дело, если человек в него вкладывает душу, как каменотес в чегемский камень, касаясь его поющими руками. Не долбит, не крушит. Сначала касается. Глухонемой кузнец одолевает немоту.
И вот как это происходит, по Кулиеву:
Разжигает он черную печь,
Поднимает свой молот сурово
И руками, обретшими речь,
Произносит заветное слово.
(Перевод Н. Гребнева)
Слово – заветное. Им открывается небывалый мир. Открыть – увидеть красоту деяния и в первый миг не поверить, что это сотворено собственными руками. Но и вся красота рукотворного мира – результат одухотворенного труда многих поколений.
Всю землю он видел как воплощение мечты о счастье, о будущем. И для этого у него имелись самые реальные основания. Крестьянин «думает» плугом, возделывая пашню для будущего урожая. Садовник «думает» садом, который принесет плоды будущим, незнакомым ему людям...
Преодолеть, преобразовать действительность сегодня по силам только человеку с поэтическим восприятием реальности, способному создать свой образ мира, свою картину жизни. А именно это делают и крестьянин, и садовник, занятые как будто самыми обыкновенными житейскими хлопотами...
Но – «как будто». Простота кажущаяся. Работа очеловечивает все, к чему человек приложил свою душу. Труд – средоточие и источник мудрости, философии, которая как бы в награду открывается человеку, поддерживает и вдохновляет его.
Труд – и тяжелые раздумья. Легкомыслие – самообман. Но потому-то трудиться надо «спокойно». Как природа. «И надо знать, что это будет вечно. Иначе жить не стоит на земле». В этой истине поэт убеждается всю жизнь. Чем дальше, тем больше. А поводом высказать ее служат не холодные изыски ума, а самые простые, казалось бы, вещи, ситуации, впечатления. Например:
По вечерам идут коровы стадом.
Как в старину, ступая тяжело,
И шествию бессмертному их рады
Земля, деревья, небо и село...
И верю я, что жизнь непобедима.
Пока они идут в вечерней мгле,
Как шли навстречу матушке родимой
В чегемском детстве, в сказочном селе.
(Перевод Н. Кондаковой)
Извечен и бессмертен круговорот жизни-бытия, если село может быть сказочным. Разве не таким оно представляется нынешнему детству? Удивительно же, что так ощущает и взрослый. Сказка, запавшая в младенческое сердце, очнулась. Почему некоторым людям выпадают эти самые счастливые минуты? Чем объяснить такое? Любовь к матери, которой К. Кулиев посвятил многие стихи (мне кажется, все, что он создал, посвящено матери; ее суд он поставил над собой одним из главных), неиссякаема. Она постоянно обновляется, очищает его душу, пробуждает и само детство, его святые мгновения и глубокие чувства, не переживи которые со всей полнотой, человек никогда не будет счастлив. Детство от Кайсына ушло слишком рано, жестоко. Он не помнит своего отца. Даже не видел его. Не сохранилось и ни одной фотографии.
Великое милосердие и высшая справедливость жизни в том, может быть, что она одаривает поэзией сирот. Поэт восстанавливает прошлое, какого не было, но без которого нельзя жить. Он вызывает в памяти прародину – страну, из которой мы все вышли. Иначе человек бездомен, вечный скиталец. Ему не суждено найти приюта в чужом и постылом мире. Нужно быть уверенным, что тебе есть куда вернуться; что есть дом и есть люди, живые или мертвые, которые ждут тебя как сына. Но как узнать родину? Узнаешь, если изжаждался, истомился в разлуке с землей отцов, если грезил о ней в бреду и муках. Сердце подскажет.
И плачу я, в твои просторы глядя,
Лишь потому, что целый век в цепях
Я был готов ходить, чтоб на закате
Увидеть горы в розовых снегах,
Когда они алеют постепенно,
Оленьей кровью залиты густой.
Земля отцов, пленен твоей нетленной,
Приснившейся мне будто красотой!
(Перевод Н. Кондаковой)
Путь поэта к родине, к первоистокам своей личной судьбы – современная одиссея человека, испытавшего все, что выпало на долю земли, народа, но что не ожесточило его сердце, не сделало его каменно-равнодушным к красоте:
Как на Итаку корабль Одиссея,
Время к Чегему вернуло меня.
Но не нашел и доселе нигде я
Чище воды и добрее огня...
Не Одиссею открылась Итака –
Встретил меня незабвенный Чегем.
Выжил я. Страшные сказки, однако,
Жизнь мне в пути рассказала меж тем.
(Перевод М. Синельникова)
Чудо возвращения! Отчего же меня, читателя, охватывает леденящий озноб? Наверное, потому, что помнится сказанное как-то давно Кайсыном: «Люди сейчас тревожатся о том, останется ли земля землей, хлеб – хлебом, вода – водой». Текущий день подсказывает вдогон страшное; останутся ли люди людьми? Не превращает ли страх уже некоторых из нас в нечто такое, что человеком не назовешь? Так в стихи входит, я бы сказал, космический масштаб, в них звучит боль общечеловеческая. Ее можно преодолеть только сообща, но поэт, обязанный мыслить и чувствовать за всех и выразить общее, не имеет права предаваться иллюзиям.
Поэт утверждает чувство всеобщей отзывчивости как основу подлинно современного жизнеощущения и мировоззрения, обязательное условие внутренней гармонии, благодаря чему человек учится глубже видеть – видеть сердцем. Это, по-моему, значит – видеть мир одновременно глазами ребенка и мудреца.
Жизнь – вечное чудо. Нас, взрослых, не надо убеждать, что это святая правда. Мы знаем сами. Но... чувствуем ли это теперь? Так, как – самозабвенно и бескорыстно – чувствует без слов ребенок, в душе которого мир всякий раз рождается вновь? Он открывает его прекрасным, как, в первый день «творения», когда все вокруг еще играет в утренней росе.
Именно в этом – стихийной и отразимой любви ко всему сущему – непроизвольно заявляет и с первозданным трепетом проявляет себя природа человека. Природа, которая вечно нова.
Кайсын, взрослый, открывает мир в час полнолуния, когда дети спят. В этот момент он «душою слился с теми, кто жил в былые времена», а «луна, чей легкий свет прилег на скалы и деревья сада», рада собственному покою:
Луна светла, и мне все внове...
Без слез на горы не взглянуть –
Таков покой, как будто крови
Не знал кремнистый этот путь!...
(Перевод М. Синельникова)
Но – «покой нам только снится». Отдавая дань «снам», поэт вовсе не пытается спрятаться от жестокой действительности, не обманывает себя, ибо стихи, которые помимо воли слагаются во сне, о каком бы невозможном счастье они ни были, наяву оставались ранами. И все-таки он благословляет посещающие его счастливые сны:
И если наяву я замерзал,
Во сне я видел солнечные дали,
Бой затихал, друзья не погибали;
Каким счастливым я во сне бывал!..
(Перевод Н. Гребнева)
У каждого поэта свой возраст. Время поэта не укладывается в календарь. Кажется, Кайсын умел управлять своим временем. А может, доверяясь загадочным ощущениям, совершил путешествия, как в прошлое, так и в будущее:
Но всаднику гляжу я вслед,
И в этот миг, быть может,
Сын горца, сам на двести лет
Я становлюсь моложе.
Или:
Был пахарем, солдатом и поэтом,
Я видел столько горя, столько бед,
Что кажется порой: на свете этом
Уже я прожил десять тысяч лет.
(Перевод Н. Гребнева)
Человек – центр истории, центр вселенной, вокруг него развертывается общественно-нравственное пространство и время. Это его духовная родина. Ее образ проявляется в мыслях и чувствах, переживаемых и выражаемых поэтом, сознающим их историческое происхождение, как бы доставшихся ему в наследство, которое он должен, приумножив, передать дальше.
Жизнь постижима в бесконечности своего развития. Предел, до которого мы, люди XX века, способны дойти, – отправная точка для будущих поколений. В этом залог бессмертия жизни вообще и причина печали, что мы не увидим самого волнующего открытия, к которому как будто приблизились. Утешение – что движение к новому постижению небывалого мира, человека начато нами, и новое зрение началось с нас: поднявшись к звездам, мы увидели себя, нынешних и будущих, со стороны. Не затем же родилось новое зрение, чтобы прерваться!
Новое зрение – новое слово. Слово – преображенная памятью боль, вопль отчаяния и проклятья тех, о ком человечество, история не имеют права забыть:
...Давно все эти люди стали дымом.
И хоть с тех пор летел за годом год,
И ныне мука их неугасимым
Горит огнем и нашу совесть жжет.
Она горит открыто или скрытно.
Земля впитала кровь, следов не видно.
На старом камне новая трава.
Но сердце у меня болит, мне стыдно,
Ходить, дышать и рифмовать слова.
(Перевод Н. Гребнева)
Драма поэта, наверное, и в том, что он должен говорить и тогда, когда, кажется, невозможно. Но слово – утешение для других людей. И оно в его власти. К. Кулиев, по мысли одного критика, причастен к трагедии века; и он выражает ее, принимая как долг чести. Вот его слово, обращенное к вдове Джалиля:
Я голову склоняю пред тобою,
Как вся Земля, я у тебя в долгу,
Прости, что раненный твоей бедою,
Я что-то говорить еще могу.
(Перевод Н. Гребнева)
Если говорить о воплощении темы мира, мало, на мой взгляд, найдется стихов, равных по силе этим, хотя, как видим, в них нет самого слова «мир». Ранит не только пуля. Что же до страданий, которым нет исхода, то «чужого горя для поэта нет».
Кайсын среди всех поэтов узнаваем по особой интонации, по целомудренному, скажу, отношению к слову. Такое отношение предполагает расшифровку генетического кода, заложенного в первослове. В принципе акт речи, по Кулиеву, – величайшее событие. Благодаря слову человек точно выходит из тьмы, из хаоса. Ведь шока он молчит, он невидим. И также благодаря слову человек включается в историю, в природу, приникает к истокам бытия. Вот почему:
Все потонуло в снежной белизне.
Стоят деревья тихо и сурово.
Так тихо все вокруг, что страшно мне
Вздохнуть неловко иль промолвить слово...
«Вздохнуть неловко»...
Мне кажется, это удивительно верно. Тут не только и не столько эстетический прорыв в новое чувствование. Да, и это. Но чтобы так чувствовать, надо естественно, как бы само собой чувствовать сердцем. Тогда скажется слово. У поэта, пожалуй, точнее: молвится. Разве мы не ощущаем, как внешний вещный мир, предметам и явлениям которого поэт возвращает «старые», а в сущности, первоначальные имена и характеристики, словно напрягся в готовности к небывалым превращениям и, уже преображенный, рождается на глазах. Кажется, мгновение! – и он заговорит на древнем, но поражающе родном и волнующе понятном наречье. Нет, еще не пора. Нельзя спугнуть тишину. Может, ее тревожат и наши мысли? И все-таки в благодарность человеку она начинает приоткрываться. Вершится волшебное действо природы.
Все тихо. На деревьях белизна,
И с каждою секундой мне яснее,
Что это не снега, а письмена,
Которые читать я не умею...
Время двинулось. Оно стремительно: «яснее» не с каждым часом, даже не с каждой минутой – секундой. Человек начинает понимать таинственные знаки. Оказывается, он когда-то умел их «читать».
Память очнулась, прозрела.
Я вижу там, за дальнею ольхой.
Неслышные куда-то мчатся кони,
И кто-то падает на снег сухой,
И тает где-то облако погони...
Но за что человеку выпадает такое? Кто хочет быть увиденным его глазами? И не во имя ли того «утешения любовью», в котором нуждаются жившие до нас и будут нуждаться идущие вслед за нами? Поэт закрепляет великий секрет связи времен, вечно живой памяти.
И чудно оживает все кругом.
Нет, это не блажная мысль пришла мне,
А виденное на веку своем
Припоминают дерева и камни...
(Перевод Н. Гребнева)
Разве эти стихи не о мире? Образ жизни, какой вырастает из них, – не только результат «покоя», пробуждения красоты из «сна», но и тревоги. Тревоги – оттого, что достижимое благородство гармонии человека и природы может быть порушено. Войной? Конечно. Но и не только ею. Нашим равнодушием, небрежной беспечностью, «громким» голосом, что для Кулиева, поэта военного племени, познавшего цену Слова перед лицом смерти и тогда не пытавшегося «перекричать войну» (А. Сурков), больнее, может быть, всего.
Достоинство слова. В нем поэт утверждает свою честь, которая определяет его жизненное кредо. Кайсына невозможно представить автором «громогласных» заявлений, деклараций, что, по его убеждению, всегда является свидетельством вольной или невольной самовлюбленности и, хуже, цинизма, желания во что бы то ни стало привлечь внимание к собственной персоне, ради чего требуется перекричать жизнь, правду.
Достоинство человека. Это, по-моему, – ум, окрыленный свободой. Таким был Кайсын. Таким его и воспринимали. «Кулиев – свободный поэт. Он, – говорила В. Звягинцева, – совершенно свободен от литературщины, украшательства, загроможденно, не говоря уже о фальши. Я бы сказала, что он свободен, как ветер, если бы ветер мог быть мыслящим».
Жизнь и поэзия Кайсына Кулиева нерасторжимы. Книга судьбы, какую он оставил нам, – «свиток верный», к которому, уверен, будут обращаться как «старые», так и новые друзья поэта, утешая его любовью. А сами, в свою очередь, будут находить в шей непреходящие уроки мужества, благородства и чести.
Чингиз АЙТМАТОВ,
"Прислушайся к словам". С. 5-20
ЖИТЬ, УДИВЛЯЯСЬ
Блистают звезды, цвет меняют горы,
Снега сползают, розы опадают,
Мне очень жалко тех людей, которых
На свете ничего не удивляет.
Рождаются великие творенья
Не потому ли, что порою где-то
Обычным удивляются явленьям
Ученые, художники, поэты.
Я удивляюсь и цветам и птицам,
Хоть мне их не понять, как ни пытаюсь.
Я удивляюсь и словам и лицам,
Чужим стихам и песням удивляюсь.
Текут ручьи, звенят их голоса,
Я слышу моря гул и птичье пенье.
Земля нам дарит щедро чудеса
И ждет взамен труда и удивленья.
(Перевел Н. Гребнев)
КЛИНОК И РОЗА
Где зелень пробивается сквозь камень
И на плечи ложатся облака,
Мне дорог розы красноватый пламень
И лунный блеск холодного клинка.
Родную землю просьбой беспокою,
Я говорю ей тихо: — Не забудь,
Когда умру, ты мне своей рукою
Клинок и розу положи на грудь.
(Перевел Я. Козловский)
СРЕДИ РОДНЫХ КАМНЕЙ
Опять я здесь, среди родных камней,
Где пела мать над зыбкою моей.
И замечал ее усталый взор,
Как снег ложился на отроги гор.
Вот тот очаг, где разводила мать
Огонь, чтоб нас кормить и согревать.
Вот камень, где над пряжею она
Сидела, одинока и грустна,
В тени скалы. А вот сама скала,
Родник, откуда воду мать брала.
А где же колыбельная ее,
Что берегла младенчество мое,
Неся покой и отгоняя страх?
Должно быть, стала дымкою в горах...
С ТЕХ ПОР, КАК Я РОЖДЕН
С тех пор, как я рожден, с тех давних пор
Я видел много рек, озер и гор.
Прекрасные я видел города
И многие места земной юдоли —
Почти окраины земли, куда
Я отправлялся не по доброй воле.
Порой от зноя я не мог вздохнуть,
Порою ветры злые в снежном поле
Мне дули в грудь.
Но где б я ни был, были вы со мной,
Хребты моей Балкарии родной.
Со мною ваша белизна была,
И красота и вышина была,
Они превозмогали боль мою,
И род мой, что не мал, хоть малочислен,
Со мною пребывал в любом краю,
Благодаря чему я жил и мыслил,
Не погибал, но побеждал в бою.
Земля отцов, я без тебя ни дня
Жить не смогу, свой облик сохраня,
Перед тобой я вновь стою сегодня,
И потому нет никого свободней,
Нет никого счастливее меня!..
ДАЛЕКИЕ ГОРЫ БЕЛЕЮТ
Вечный снег на высокой горе,
Нет ни бурь, ни пожаров, ни войн.
Это зная, сейчас я спокоен
Даже здесь, на больничном одре.
Как в былые мои времена,
Где-то горы белеют; и ныне
Ты сейчас без меня, ты одна
Видишь снег на далекой вершине.
Вы, родные мои, далеки,
Мир над вами в родном нашем крае.
И поскольку всё это я знаю,
Все мои испытанья легки,
Я о боли своей забываю.
Вы — надежда моя и покой,
Вам подвластно целения чудо.
И хоть больно мне двигать рукой,
Я тихонько машу вам отсюда.
Может быть, мне отсюда видней
Край родной мой, далекие горы.
Как всегда, в час печали моей
Вы — надежда моя и опора.
Мне осталось недолго лежать
С тяжкой петлей болезни на горле, —
Крылья вы надо мной распростерли
И меня воскресили опять.


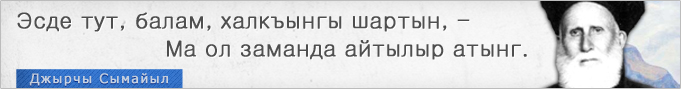












Комментариев нет