 Translit
Translit
Он оставил свою судьбу
Фатима Урусбиева,
г. Нальчик
О творчестве Муссы Батчаева
Он ушел от нас за три года до перестройки в самом расцвете жизненных и творческих сил, и в то же время, по особой логике таланта, осуществив в главном свое назначение.
Сам уход его - от заземлившейся молнии высоковольтной линии в шесть тысяч вольт - был кричаще несправедлив, и долго еще казалось, что он в очередной раз мистифицирует, - он, так часто игравший в своих рассказах и повестях со смертью.
Самый факт этой нелепой и ранней смерти как будто бы подтверждал правоту своеобразного нравственного ригоризма М. Батчаева не участвовать, не "включаться", не порицать словами, не подсказывать, не подвергать нравственному суду "своих земляков" - но быть всегда открытым и беззащитным для их суда. И в частных отношениях, и о сфере общественной этот принцип действовал почти безотказно. И в этом высшая нравственность художника, близкая к аскезе, и высшая свобода от жизни для творчества. Боязнь просто жить, просто любить. Многие не любили его, считали мудреным, но он был и сам неуязвим для нравственного суда "многих"...
Именно нравственная взрослость побуждала его звонить в колокол о зле непонимания: "И хочется крикнуть на весь мир, хотя бы на весь СССР (скажем, ворвавшись на центральную радиостанцию, чтобы гремели все репродукторы): "Дорогие мужчины и женщины! Пишите друг другу! Оставьте все дела, оставьте обиды! Найдите время, чтобы заполнить страничку! Будьте добры, внимательны к людям, которые Вас любят. Которые умереть за Вас готовы. Очень может быть, что все наши принципы, руководствуясь которыми Вы наказываете друг друга молчанием, яйца выеденного не стоят... Война, болезнь, трагический случай могут оборвать Вашу жизнь, и Вы покажетесь себе мелочными и злыми! И как наказание за свою жестокость, вдруг однажды почувствуете в душе неуходящую боль, незаполняемую отныне пустоту"... (Из личного письма). Он не знал тогда, что предсказывает свой собственный трагический уход, но пережил его в творческом допущении, и каким же это стало наказанием оставшимся 8 живых и больным недочувствием, человеческой незрячестью людям из его близкого окружения!..
Он ненавидел всякую анемичность, музейность в искусстве, предпочитая им "всяческую жизнь" и считал, что теперь, когда он усвоил в возможных пределах категорию "как", то есть хитрости ремесла, на первый план для него выходит категория "что". Ибо "я чувствую, что время - шелестит, как песок, сбегая по ресницам"...
И теперь надо писать со скоростью руки, имея перед собой лицо, которому ты рассказываешь, а не просто выражаешь себя. Обращенность к конкретному собеседнику, под которым он понимал не обязательно интеллектуала высокой пробы, а уважал "средне-человеческое" в человеке, не сковывающее доверительность рассказа. В этом и заключается секрет демократичности, "людности" и, как высшее ее выражение, народности его прозы, постоянно отождествляющей себя с каждым среднечеловеком, со своими земляками и, в конечном счете, с родом человеческим.
"Писатель - канарейка в шахте" -это изречение было для него определяющим.
"Национальное", "интернациональное" и "общечеловеческое" - эта понятийная триада рассматривается у него не в отвлеченных дебатах, а на уровне среднечеловеческого общения: на базаре, где представителя рода человеческого продают картошку в жесточайших условиях "рыночного закона конкуренции", или в фарсовых ситуациях (злоключения поборника новых обычаев - сельского учителя Козлова-Текеева в повести "Аул Кумыш"), или введением с локально этническую среду "космополитических" персонажей (еврейский мальчик в новелле о расстреле немцами жителей села, цыганка, иностранка в "Горизонте бескрылых" - неоконченном романе писателя, девушка Инга в повести "Когда осуждают предки").
Первый его редактор, работавший с книгой "Быть человеком", сразу сделавшей писателя известным, был удивлен краткостью его слога, не оставляющей места для редактуры. Каждая фраза будто шарада, и связана с предыдущей и последующей накрепко. Можно изучать, как нотную запись, его короткие повести, рассказ "Сколько у козла ног?", новеллы из книги "Быть человеком". Судя по сохранившейся, испещренной его пометками книжечке с рассказом Маркеса "Самый большой утопленник", его заявления о легкости письма кажутся не относящимися к нему самому.
Мусса Батчаев уплотнил до предела свою прозу, насыщая ее ткань диалогами и идейными оппозициями.
Его созвездие от рождения - "Весы"...
Творчество Муссы Батчаева пришлось на время трудных сдвигов в социальном и в этнопсихологическом сознании.
Родоплеменное сознание, не прошедшее этап общей духовной культуры, выработанной человечеством, легко и механически накладывалось на социальные механизмы застойного периода, порождая чудовищные паллиативы, замещения сущностей.
Так, роль интеллигенции в культуре народа подменялась волевым некомпетентным администрированием, разумные принципы хозяйствования, основанные на вековом опыте народа и рачительном отношении к природе - кампаниями, заклейменными в литературе под ставшим знаковым в 60-е годы "созвездием Козлотура", принадлежащим: Фазилю Искандеру. В Кумышских "мистериях" Муссы Батчаева "Мои земляки" такие социальные аномалии существуют не в "негативной", как тогда это называлось, подаче, а растворены живой карнавализованной стихией здорового народного бытия. Кампания с изгнанием ишаков, непомерные налоги на масло, обобществление лошадей, внедрение нового обряда и кампании по праздничному убранству проезжих улиц с подкрашиванием заборов, как в потемкинских деревнях - все это существует на фойе естественного бытия Кумыша, который предстает "некой неформальной общиной со своей Конституцией"1, подвергается ее суду и преодолевается тем же нормальным течением народной жизни. В публицистике последнего времени обозначился "феномен" Павлика Морозова, стали говорить о деструктивном значении всякой гражданской войны для национального и общечеловеческого сознания... Сколько писательской мудрости и исторической "взрослости" (пользуюсь его же термином) понадобилось тогда Муссе Батчаеву, чтоб, не дождавшись официального соизволения, писать о народе правдиво, не сбиваясь на бесовские соблазны ярлыков и радостного приятия или неприятия и без того уже признанного и дозволенного.
Старший его собрат по карачаевской литературе Халимат Байрамукова в некрологе, названном ею "Мелькнувшая молния", писала об этом его отношении к прошлому, далекому и недавнему: "А что касается таких сложных тем, как военная, пережитки прошлого, он шел от личного к общечеловеческому и избегал даже малейшей надуманности.
Как жаль, что мы вытаскиваем из-под спуда ярко и законченно сформулированные мысли только тогда, когда надо оградить себя высказыванием из классика. Вот оно, высказывание В.И. Ленина, которое так было необходимо все эти годы и которое работает на наше сегодня - о "приоритетности интересов общественного развития, общечеловеческих ценностей над интересами тою или иного класса". И о том, как "вредно смешивать политику (особенно плохую) и культуру".
Обвинения доносителей, выдвигавшиеся после очередной новой публикации или премьеры пьесы Муссы Батчаева, всегда выстраивались в эту самую систему "плохой политики"... Как бы не замечая, что не было в то время в Карачае писателя-современника более работающего на время и живущего не показными, из последней передовицы, а "длинными" мыслями о прошлом, настоящем и будущем своего народа, ответственностью за него. Трудно было уложить в мистерии, в смешные истории новый быт Кумыша, а вместе с ним и всего Карачая, и он перешел на прямую публицистику - в своих пьесах, статьях по поводу негативных явлений и "отклоняющегося" поведения, он говорил о хулиганстве и т. д. корни которого он, как всегда, искал глубоко.
Самым глазным идейным врагом его был кулак всех времен и формаций. Для него это было понятие не классовое, а из области антидуховной, разрушающее человека, нацию. Таков власть предержащий в послевоенном селе кулак из пьесы "Аймуш", почти плакатно обращенный к нашему дню...
Бороться с кулаком во всех его исторически изменяющихся ликах было его миссией.
Таким же деструктивным, разрушающим для национальной культуры, для нашего человеческого "качества" злом он считал "человека без памяти". Этот человек, не выдерживая органики изображаемого им столь пестро и многолюдно сообщества "земляков", выглядит почти искусственным.
Теперь это зло уже названо и талантливо изобличено пером Чингиза Айтматова, став художественным символом "манкурт" из "Буранного полустанка". Но трудно приходилось писателю столь немногочисленного "национального меньшинства" у себя дома, где литература существовала в условиях жестокого социологического подхода со стороны курирующих организации. Ленинский принцип соотношения свободы и партийности в литературе на местах часто извращался пониманием единства как противопоставления.
И чем талантливее был писатель, тем легче было учинить "охоту на ведьм", ища крамолу в любом факте литературной условности.
"Почему положительные герои Даут и Хаджидаут в повести "Аул Кумыш" пьют?" - возмутились ревнители.
Другой вопрос: "Почему в полуфольклорной пьесе-легенде "Честь и судьба" герой - не из народа, а князь?"
Мы не приводили бы здесь эти вопросы, если бы они не ставились на заседании, посвященном разбору произведений М. Батчасва в присутствии сотрудника обкома КПСС, с записью беседы на магнитофон...
Впрочем, результаты заседания были сведены к нулю, и следующие анонимки так же тщательно разбирались, но уже на заседаниях райкомовских активов...
Писательская родословная М. Батчаева много объясняет в этом несовпадении с господствовавшим тогда духом услужении и идейного прагматизма ("чего изволите?"), установившимся в литературной среде.
Его талант раскрыло время 60-х, время после 20-го съезда КПСС, обретения им возвращенной родины, возрождения культурного строительства в Карачае во всех областях, включая собирательство и издание фольклора.
"Здесь чужая юность брызжет кровью на мои поляны и луга"...- любимые им есенинские строки связались для него навсегда с "полянами" и холмами Карачаевска, города его студенческой юности, когда все казалось возможным, все было по плечу. Общее оздоровление духовной жизни, громкие поэтические "штудии" Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, проза шестидесятников - все это стало на всю жизнь "символом веры", сформировало характер присутствия в литературе, который уже не менялся применительно к обстоятельствам в "застойные" 70-е.
Повезло ему и с литературными наставниками. Первое напутствие в литературу, данное ему чуткой к молодым и старавшейся быть всегда заодно с талантом Халимат Байрамуковой, семинар С. Антонова, уроки партийности и гражданственности, полученные из курса Г. Куницына, общение с товарищами по Высшим литературным курсам - Ю. Селезневым, В. Ковдой, И. Ракшой, Тер-Акопян - все это стало его литературным и гражданским семинаром, а не просто отметкой об образовании.
Еще был семинар драматургов при ГИТИСе в конце семидесятых, где слушателями были энтузиасты нового "поствампиловского"
театра.
Надо сказать, что его присутствие в качестве ученическом заслуживает оговорки. Нестандартность личности, нравственная и художественная зрелость принимались сразу, он становился как бы "тамадой" не только в смысле общения неформального, но и как человек, воплощающий в себе качества мужчины, "хорошего человека" и человека профессии, несуетного, с безошибочными ориентирами.
Он, пожалуй, не только учился, но и воздействовал на другую среду уже своей личностью, приобщая все большее количество знакомцев и болельщиков к своей национальной культуре.
"Мне чертовски понравился Мусса. Я поверил, что он хороший писатель, даже ничего не прочитав..." - так высказался о нем критик Вадим Ковский, увидев его однажды... "Батчаев верил в читателя и любил его так же полно и открыто, как своих земляков. У этой веры и любви никогда не было осторожных оговорок, оглядок через плечо - была простота и надежность сильного чувства, сильного человека" (из предисловия Игоря Штокмана к последней, вышедшей в Москве книге "Быть человеком").
У него не было пиетета перед понятиями "тайна творчества", "призвание". Он пришел в литературу со своим содержанием: "быть человеком", и в этом смысле литература для него была самой активной формой "собеседования", влияния на жизнь.
По тому, как он ощущал время, что вся жизнь и творчество были поделены на "этапы", четко им разграниченные, по тому, как вообще относился к писательству, которое не было для него какой-то каторгой, на которую обречен, а было делом. Однажды на упрек, что так не следует поступать писателю (по какому-то житейскому поводу) он ответил, что охотно откажется от писательства, если придется выбирать между ним и здоровьем, допустим, брата Ахмата, даже мизинцем этого младшего брата. Обыкновенность подхода к своему призванию - еще и оттого, видимо, что он вырос в большой семье, где нужно было поднимать детей, и где писательство не было в особой чести, а почиталось наравне с другими занятиями, привилегий за это не полагалось. Удивляет бескорыстие и безбытность его, отсутствие хлопот о своем житейском обустройстве.
В конце жизни осуществил для себя только маленькую "Аркадию" - дачку, да и то скорее для друзей и нечаянных гостей: с каким-то ненормально плодородным огородом, урожай с которого он с детской гордостью раздаривал... Мечтал посадить большой сад у себя в Кумыше... Собрался строить у дороги то ли дом, то ли писательскую гостиную... Собирался...
Писательство было мечтой, прорывом в "другую жизнь", которого так и не получилось - не позволяли многие заботы, более неотложные.
При жизни он был полупризнанным пророком своей родины, ее глашатаем, известным многим собратьям по перу и читателям за пределами своего края, но девушки со швейной фабрики, находившейся неподалеку от его дома, или ближайшие соседи могли не догадываться о том, кто живет с ними рядом. Хотя он очень гордился тем, что какая-то девушка, пожелавшая остаться неизвестной, в каждый день рождения присылала ему букет белых цветов.
И то, как он произносил, "Мусса Батчаев", в одно слово, без дальнейших обязательных представлений, как паспорт, данный ему народом, - тоже говорило об осознании миссии.
Заниматься делом развития национальной культуры было для него насущным и естественным, не требующим специальных виз и признаваемым всеми безоговорочно.
Он не ждал официальных установлений, когда способствовал созданию карачаевской переводческой группы при Литинституте, изданию книг о соратнике В.И. Ленина - Умаре Алиеве в Ставрополе и Политиздате, появлению альбома о Домбае в издательстве "Планета" в уникальном полиграфическом исполнении, для издания которого собрал сообщество людей, с полной отдачей работающих для этого. Судьба молодежного литобъединения, или конкурсов на лучший рассказ, либретто для первого карачаевского балета...
Все новое для национальной культуры приветствовал первым - будь то вернисаж молодых художников, эстрадный дебют Лидии Батчаевой или появление своих карачаевских "бардов"-Альберта Узденова и др.
С каким-то острым любопытством относился к театру, старался делать его сам - от совершенно новой драматургии, которая писалась именно для этой публики, и даже для определенных актеров, до присутствия на репетициях. Помню, как настойчиво он искал оптимальную декорацию к неопубликованной пьесе "Особые обстоятельства", которая бы конструктивно и образно выражала идею пьесы и помогала актерам.
Уникальным было и отношение к жизни спектакля уже после премьеры. Он разъезжал с актерами по всему маршруту его "проката", дабы участвовать в процессе общения со зрителями. Ему, видимо, была интересна реакция именно этого зала, этого села, и он сам был зачинателем ^обсуждений и бесед после спектакля.
"Театр Муссы Батчаева" напоминал площадный театр 30-х годов с его импровизированными подмостками, с громкими рукоплесканиями зрителей, сливающихся в одном чувстве.
Его не пугала эта соборность, иногда смех невпопад, стулья в проходах и атмосфера митинга, ибо он сам, своей фантазией и талантом, своей родной речью, звучащей у него так убедительно и узнаваемо, сотворял этот праздник, где на его глазах "толпа превращалась в нацию".
Читатель и писатель совпадали в "эффекте присутствия" "здесь и теперь", и об этом, наверно, втайне мечтает каждый писатель.
Театр-колокол, театр ярко агитационный, лечащий и просвещающий - был его сознательной установкой уже зрелых лет, был альтернативой кабинетному творчеству, в рамках которого ему уже было тесно.
Он подарил своим землякам Лопе де Вега на их родном языке - испанские гранды и кокетки чувствовали себя на карачаевском в "Хитроумной влюбленной" вполне естественно, на деле осуществляя тот перевод или диалог культур, который так необходим всякой развивающейся культуре.
Но его театр становился плакатным, словно раздвигал сценическую площадку до пространства всего Карачая, когда нужно было звонить в колокол, говоря народу о его нравственном неблагополучии. Словно глашатаи, перекликаются со скалы на скалу голоса в пьесе "Аймуш".
"Странные" сюжеты его пьес всегда содержали, кроме видимого, событийного, злободневного, еще и бытийный, экзистенциальный слой.
"Аймуш" так и осталась бы социальной драмой образца 30-х годов, если бы конфликт в ней был между новым и традиционным. Здесь же - не рецидивы этнически отсталой психологии, а новые трудности чисто социального плана. Это - тема одиночества, опасности, некоммуникабельности в обществе, где на смену родовому единству приходят волчьи законы приобретательства, престижа.
Это - пьеса идей, а не событий, как и пьеса "Особые обстоятельства". В последней такой же странный сюжет, явно сконструированный, судя уже по названию... Особые обстоятельства - это пропажа опытной партии яков, привезенных в горы из Сибири, поиск их группой из четырех человек.
"Быть человеком", - понятие антологическое для прозы Муссы Батчаева, то; ради чего он пришел в литературу. Его не интересует описание само по себе, или "культурные" сюжеты сами по себе, или самовыражение само по себе.
Нравственность, по нему, органически присуща человеку. Ведь нельзя предсказать все ситуации "как поступить", должен быть генетический код, иначе наступает "дурная бесконечность", человек "рассыпется".
Недаром он проверяет нравственность на "слезе ребенка", по Достоевскому, перевесившей мир. Летописцы всех событий, случающихся со взрослыми, у его - дети. Маленький праведник Хохалай с больным сердцем, находящийся на попечении как бы всего села, ведущий "Красную книгу" села Кумыш; мальчик из "Серебряного деда", забросивший рога со счастьем в воду и считающий себя виновником всех бед, приключившихся и с дедом; мальчик, а затем юноша, герой повести "Элия", так рано узнавший неравнозначность утешений и потерь.
У каждого сколько-нибудь серьезного писателя есть проблема, которую он пытается разрешить в своей жизни и творчестве, обозначает, но не до конца разрешает, ибо и сам писатель ведь - только инструмент познания, текучая материя...
Есть она и у Муссы Батчаева, это - раздвоенность между человеком рода и общечеловеком, "гуманоидом", как назвал своего героя Нодар Думбадзе. Ведь род налагает на человека известные ограничения, он, чтобы выжить, не потеряться, не распылиться в космической пыли со своей выработанной культурой, кодексом нравственности, закрывает свои границы для других общностей.
Именно эта рассогласовка родового и личностного составляет пружину действия повести "Когда осуждают предки".
Живая кровь проблем, несогласие с самим собой, а не схоластика готовых истин строит прозу Муссы Батчаева, потому так различимо возвышаются они, эти проблемы, а его прозе, похожей на горную местность, а не на унылую равнину. Вот некоторые из них:
слово и молчание, соблазн познания и верность колее предков, жизнь и смерть как бытийственные превращения, жестокость и доброта в их нерушимой диалектической связи, вертикаль и горизонталь духа, которые тоже не могут одна без другой.
Это уже - состав философский, а не просто проблемный, позволяющий его прозе остаться в будущем.
Он вернулся в Черное ущелье по Колее предков.
И если его Элия убегает от предков героя и от нас в необозримость, то он, уйдя, вернулся к нам... Его творчество обратилось к землякам, ушло в Карачай.
Процессия, провожавшая его в последний путь, шла но обжитому пространству: вот Кубань с плотиной, швейная фабрика, где прошла жизнь Аймуш, вот школа, где Мусса учительствовал и где уборщицей работала тетя Поля. Вот тропа, ведущая на кладбище, в Черное Ущелье, где произошел знаменитый поединок Шамды с Даутом и еще всякие забавные истории...
Все уже готово было принять его: и нежаркий летний день, и безветрие, и особая тишина, разлитая кругом, отделившая весь мир от места этого народного прощания и давшая почувствовать запах горя, настоянный на травах ущелья,
"Это она, трава Карачай, чей запах мучил нас столько лет, она, чей высохший стебель хранит в себе до сих пор рукоять отцовского меча, она, чьи соки текут в нашей крови!" - эти строки из переложенной им легенды - о нем самом и его творчестве.
...И только потом небо разразилось на неделю непрекращающимся дождем, словно омывающим народную потерю. На его могиле, как ни странно, говорились обычные речи, и он слушал их на этот раз без всегдашней улыбки" говорили и те, кто при жизни не очень его жаловал.
Мусса Батчаев, так уверенно приравнявший Бытие Кумыша к Бытию Мира, воплотил счастливое состояние духа карачаевского народа, его "золотой век в своем творческом имени, с которым, я уверена, будет отождествлять себя отныне скупой на похвалы и одобрение несуетный наш народ.
Литературно-художественный и общественно-политический
Альманах Ставропольской писательской организации "Ставрополье", №6, 1989 г.


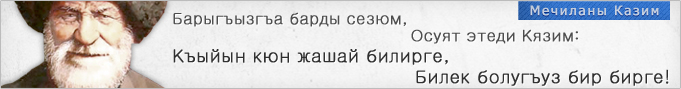












Комментариев нет